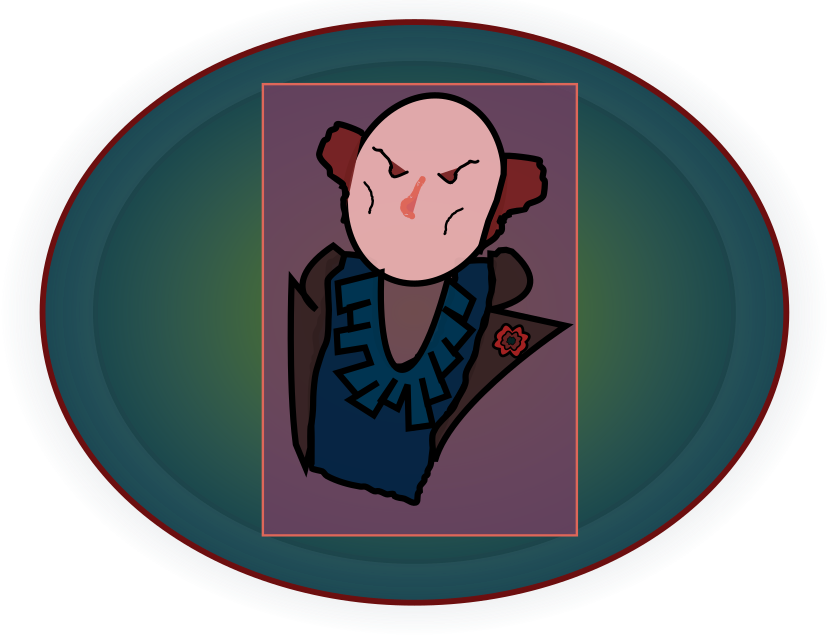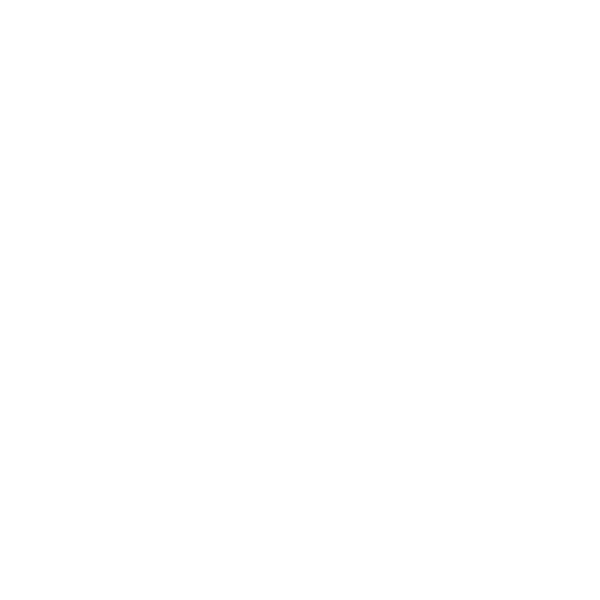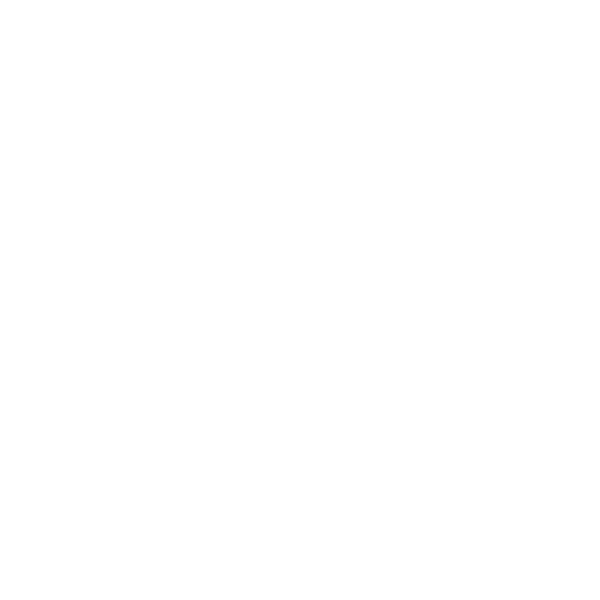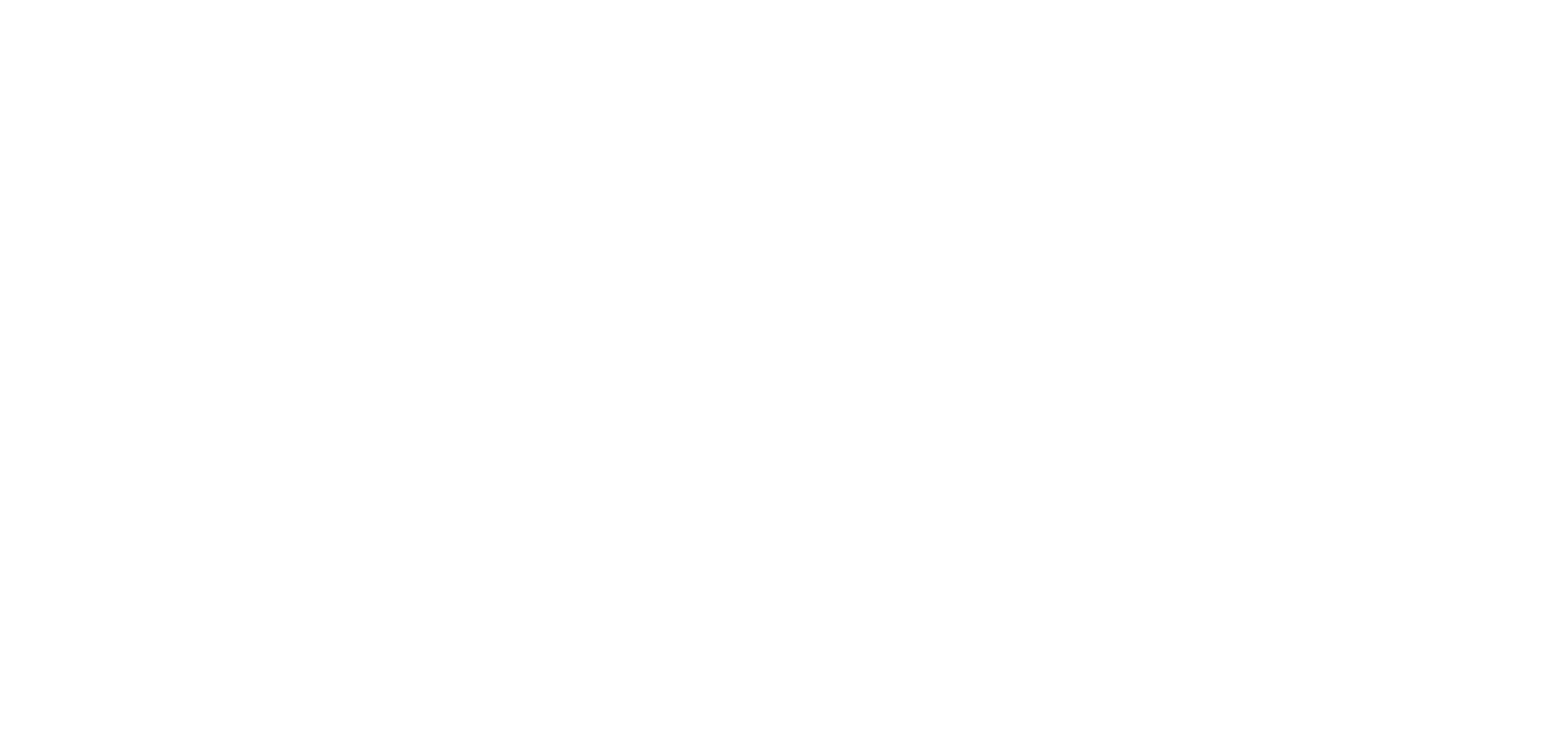
Наука |
Наш портал предлагает отличную возможность для реализации научного потенциала студентов.
Мы публикуем работы тех, кто хочет, чтобы их труд был увиден другими, оценен по достоинству, тех, кто готов сделать первый шаг в науку!
Мы верим, что через практику написания, публикации и критики действующие студенты и готовящиеся абитуриенты, следовательно, будущие ученые могут получить необходимые знания для создания логически и формально правильных научных и учебных исследовательских трудов.
Что мы предлагаем?
1

Публикация любой вашей работы (реферат, доклад, эссе, статья, курсовая и пр.) абсолютно бесплатно;
2

Критика опубликованных работ, чтобы их авторы улучшали свое письмо.
3

Опубликованные работы позволяют не допускать схожих ошибок и использовать наработки коллег для собственных исследований. На примере своем и ином учиться! Более того, на сайте статьи, посвященные правильному написанию любых письменных работ, которые может потребовать вуз!
4
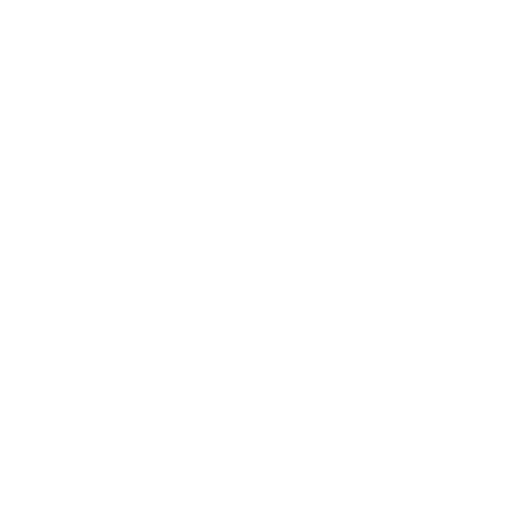
Формирование портфолио работ защищенных авторским правом CC BY 4.0.
|
Зачем вам это?
Вы не теряете, что пишите, мы это храним, дорожим и читаем!
Для вас публикация там, где вас читают и критикуют может стать мотивацией стараться и не опускать руки!
Ваш труд часто остается без внимания? Киберстудентик это исправит! Вашу работу обязательно прочтут, откритикуют и научат, как правильно. На сайте есть блок статей, посвященных тому, как писать ту или иную письменную работу.
Ваш первый шаг в науку будет проще простого!
Киберстудентик собирает ваши работы в одном месте и еще авторским правом защищает по системе CC BY 4.0.
Для вас публикация там, где вас читают и критикуют может стать мотивацией стараться и не опускать руки!
Ваш труд часто остается без внимания? Киберстудентик это исправит! Вашу работу обязательно прочтут, откритикуют и научат, как правильно. На сайте есть блок статей, посвященных тому, как писать ту или иную письменную работу.
Ваш первый шаг в науку будет проще простого!
Киберстудентик собирает ваши работы в одном месте и еще авторским правом защищает по системе CC BY 4.0.
Критерии к публикации
Честность
Отсутствие плагиата. Стыдно должно быть тем, кто хочет выдать чужие успехи за свои.Законность
Текст работы не содержит положений, противоречащих Конституции РФ, то есть не включает экстремистских высказываний, не способствует расовым, национальным или конфессиональным склокам и т. д.Соответствие требованиям
Исследование соответствует следующим разделам научного знания: История, Философия, Психология, Богословие, Лингвистика, Литература, Юриспруденция, Экономика, Социология, Культурология; География, Геология, Физика, Химия, Биология.Уникальность
К публикации допускаются любые виды письменных учебных и научных исследований с уникальностью текста более 60%.Формальность
Работы подвергаются редакции в соответствии с нормами русского литературного языка (замысел автора и особая лексика сохраняются), затем публикуются в формате .pdf.Анонимность
При желании ваши имя и фамилия, учебное заведение или иная личная информация могут быть скрыты.
Критерии к публикацииЭтот раздел посвящен условиям, при которых мы опубликуем вашу работу.
|
Что нужно сделать для публикации?
Просто заполните форму по кнопке ниже и ожидайте письма с подтверждением публикации
Список новых публикаций:
СЭВ как инструмент советского влияния на страны Восточного Блока
В данной статье рассматривается проблема советского влияния на страны Восточного Блока через СЭВ. Исследование показывает, что страны-члены успешно отстаивали свои национальные интересы.
Общество Любителей Естествознания Антропологии и Этнологии (ОЛЕАЭ)
В данном докладе рассматривается работа ОЛЕАЭ – Общество Любителей Естествознания Антропологии и Этнологии. Работа показывает развитие первых этапов антропологии и этнографии в России на примере развития самого известного и значимого объединения учёных.
Развитие институтов социальной защиты в России в контексте глобальных тенденций в социальной политике
В данном исследовании рассматривается развитие институтов социальной защиты в России в контексте глобальных тенденций в социальной политике
Политическая философия Никколо Макиавелли
В статье рассматриваются взгляды Макиавелли на управление и стабильность государств на примере Венеции, Спарты и Рима
Принципат Тиберия. Внутренняя политика и отношения с сенатом
В статье рассматривается период правления императора Тиберия. Анализируется его подход к управлению, внутренняя политика и взаимоотношения с сенатом Римской империи.
Вышеградская группа: тернистый путь с Востока на Запад
В данной статье рассматривается уникальный путь Вышеградской группы с Востока на Запад, ее интеграция в Западный мир и возникшие проблемы
Городское пространство как фактор борьбы с аномией
В этой статье вы найдете исследование о городском пространстве как факторе борьбы с аномией
Церковь и государство в 17 веке
В докладе вы найдете информацию о роли церкви и государства в XVII веке. Изучите содержание, чтобы узнать о причинах возвышения церкви, ее роли в эпоху Смутного времени и при первых Романовых.
Популярные сейчас
- 160 просмотровВ докладе исследуется тема новгородско-ганзейских торговых отношений в XIII-XV веках.
- 77 просмотровДанная статья изучает период правления императора Тиберия, его подход к управлению, внутреннюю политику и взаимоотношения с сенатом Римской империи.
- Бородин А.В.75 просмотровК прочтению предоставляется реферат по книге Карло Гинзбурга «Сыр и черви», где автор рассматривает народное вольнодумство и его связь с архаичными культами.
- Левина П.И.63 просмотраИсследование затрагивает следующие аспекты:
- Какие примеры плохих жен были использованы в беседе отца с сыном?
- Какие метафоры были использованы в сочинении и какова их роль?
- Какие источники были использованы при написании этой беседы?
- Вдовенко Е.А.49 просмотровАвтор в своей работе поднимает различия между язычеством и христианством в контексте отношения к болезни и магии.
Пример критического отзыва
Ниже представлены сокращенная и полная версии критического отзыва на примере работы Рогожкина С. В. "Принципат Тиберия. Внутренняя политика и отношения с сенатом"
Тема работы — "Принципат Тиберия. Внутренняя политика и отношения с сенатом".
Введение содержит обзор историографии по царствованию Тиберия Клавдия. Необходимо добавить оценку историографии и показать, как идеи других исследователей применяются в данной работе. Автор не подробно характеризует источники.
Рогожкин начинает основную часть работы с характеристики принципата Тиберия, но не обсуждает структуру работы и не проводит критический анализ цитат античных историков.Современные историографы считают, что некоторые эпизоды из жизни императора были преувеличены. Автор статьи не объясняет причины этого.
Странная логика в положении о вине Пизона в смерти Германика.
Использование античной терминологии без объяснений может сбить с толку читателя. Необходима четкость и внимание к деталям в выводах.
Рогожкин С. В. исследует изменение отношений Сената и Тиберия. Исторические события повторяются с регулярной точностью в тексте статьи. Не обязательно придумывать новую историю для каждой главы, можно объединить выводы о событиях в одном месте. Вторая глава похожа на младшего брата первой с теми же выводами. Следует удерживать одну традицию написания слов для избежания путаницы.
Полезность третьей главы сомнительна, так как автор повторяет выводы.
Рогожкин С. В. анализирует критические события правления Тиберия, включая восстание в Галлии и реформы Германика.
Автор приходит к выводу, что правление Тиберия Клавдия сохраняло статус-кво, хотя ранее утверждалось об активном применении репрессий и лишении Сената политической силы. Сам автор противоречит своему выводу.
Рогожкин С. В. не охватил все аспекты правления Тиберия, ограничившись лишь политической историей. Отсутствует критический подход к источникам, анализ необходим.
Освещение этапов предшествующего и последующего правления важно для понимания динамики принципата. Похвально стремление Рогожкина отразить политику Тиберия. Работа хороша, но не достигла поставленной цели.
Введение содержит обзор историографии по царствованию Тиберия Клавдия. Необходимо добавить оценку историографии и показать, как идеи других исследователей применяются в данной работе. Автор не подробно характеризует источники.
Рогожкин начинает основную часть работы с характеристики принципата Тиберия, но не обсуждает структуру работы и не проводит критический анализ цитат античных историков.Современные историографы считают, что некоторые эпизоды из жизни императора были преувеличены. Автор статьи не объясняет причины этого.
Странная логика в положении о вине Пизона в смерти Германика.
Использование античной терминологии без объяснений может сбить с толку читателя. Необходима четкость и внимание к деталям в выводах.
Рогожкин С. В. исследует изменение отношений Сената и Тиберия. Исторические события повторяются с регулярной точностью в тексте статьи. Не обязательно придумывать новую историю для каждой главы, можно объединить выводы о событиях в одном месте. Вторая глава похожа на младшего брата первой с теми же выводами. Следует удерживать одну традицию написания слов для избежания путаницы.
Полезность третьей главы сомнительна, так как автор повторяет выводы.
Рогожкин С. В. анализирует критические события правления Тиберия, включая восстание в Галлии и реформы Германика.
Автор приходит к выводу, что правление Тиберия Клавдия сохраняло статус-кво, хотя ранее утверждалось об активном применении репрессий и лишении Сената политической силы. Сам автор противоречит своему выводу.
Рогожкин С. В. не охватил все аспекты правления Тиберия, ограничившись лишь политической историей. Отсутствует критический подход к источникам, анализ необходим.
Освещение этапов предшествующего и последующего правления важно для понимания динамики принципата. Похвально стремление Рогожкина отразить политику Тиберия. Работа хороша, но не достигла поставленной цели.
Работа соответствует теме, которая называется «Принципат Тиберия. Внутренняя политика и отношения с сенатом».
Во введении первым, что бросается в глаза, это подробная характеристика историографии, связанной с интересующей проблемой — царствования Тиберия Клавдия — все хорошо, хотя Рогожкин С. В. не дает оценки состояния отечественной и зарубежной историографии, тем самым не демонстрирует научную новизну собственного исследования. Излагая мысли исследователей правления Тиберия, Самуэль Вячеславович не говорит о том, почему эти мысли полезны для предлагаемой работы. Обращаясь к источникам, автор характеризует их недостаточно подробно и неравномерно: во-первых, не говорится о языке, на котором изучался источник (а ссылки на источники неправильно оформлены, см. ГОСТ), во-вторых, автор не приводит списка сочинений античных авторов (хотя характеризует отдельные), в-третьих, Самуэль Вячеславович больше посвящает внимание биографической информации, чем источниковедческой (не раскрываются специфические особенности работы с тем или иным источником), например, про первого в разборе Веллея Патерекула Рогожкин С. В. пишет: «По мнению современных биографов, ряд эпизодов, связанных с императором, были преувеличенны» — однако от трактовки причин этого воздерживается. Автор статьи ставит цель, декларирует задачи, но опускает структуру работы.
Основную часть статьи Рогожкин С. В. начинает с характеристики особенностей принципата Тиберия, хотя уже отразил это в своем введении в разделе, посвященном историографии. Стоит отметить, что Самуэль Вячеславович правильно делает, что объясняет приводимые исторические факты и события, хотя в то же время лишает критического анализа цитаты античных историков. Более того, во введение Рогожкин С. В. приводил исторические события, ссылаясь на мнения исследователей, в основной части автор статьи от этого отказался, поэтому, когда мы, читатели, имеем дело с субъективным взглядом (тезис с мнением самого Тиберия, реплика ему приписываемы и т. п.), мы можем напороться на ошибку в трактовке или попросту привести неверное историческое объяснение. Необходимо демонстрировать весь путь мыслительного процесса и выводы, к которым в ходе процесса удается прийти. Странная логика наблюдается в положении о вине Пизона в смерти Германика: «Однако зафиксировано, что Пизон открыто радовался смерти своего соперника и отправлял письма Тиберию, в которых всячески критиковал Германика. Подобное поведение косвенно свидетельствует о возможной непричастности Пизона. Ведь в ситуации, когда тебя обвиняют в смерти сына императора, последние, что ты должен делать, так это публично критиковать погибшего и радоваться его смерти». Видимо, автор здесь хотел сказать, если императору нужно найти виноватого, то он выберет того, кто в общественном сознании хуже относился к убиенному, взор упал на того, кто не скрывает своей ненависть — на Пизона, хотя тот, может быть, к убийству и не причастен. Кажется минусом использование античной терминологии (квестур, префект преторианцев, претор, проконсул и т. д.) без ее раскрытия: непосвященных читатель просто не поймет, что читает, это сокращает потенциальную читательскую базу.
Рогожкин С. В. подробно и понятно показывает эволюцию Тиберия, однако неясно, чем научно привлекательна предлагаемая работа, так как излагаемая информация представляется всяким учебным пособием, описывающим историю Рима.
В конце главы автор предлагаемой статьи упоминает трёхчастное деление, однако в ходе рассуждения это никак не фиксировалось. Не достает четкости. Выводы в конце главы отражают четкое внимание деталям.
Во второй главе Рогожкин С. В. прослеживает изменение отношений Сената и Тиберия. Опять проскальзывает странная логика: «Сенат проголосовал как нужно было Тиберию, но не единогласно, что говорит о постепенном утрачивании сенатом того влияния, что он приобрёл после смерти Августа». Как факт несогласия говорит об упадке власти? Непонятное предложение: «Если изначально у сената была причина относиться к сенату благосклонно для того, чтобы не потерять ещё сохранившихся за ними прав, то теперь Тиберий мог представлять в глазах сенаторов угрозу» — хотелось бы пояснений. Самуэль Вячеславович не смог уйти от пересказа им же оговоренных в первой главе исторических событий: сюжеты про Агриппу, квестуру Нерона повторены чуть ли не слово в слово. Очевидно, невозможно и не нужно придумывать новую историю для новой главы, но разве не кажется логичным, если в работе рассматриваются одни и те же события, почему бы не объединить в одном месте выводы при характеристике этих событий. Складывается впечатление, что вторая глава — это младший брат первой, наделенный меньшим количеством примеров, но такими же выводами.
Из буквоедства: приводя наименования «сенат» — «Сенат» или «август» — «Август» в ходе работы кажется правильным выдерживать одну традицию изложения и писать слова одинаково, иначе в голове происходит путаница, ведь разница заглавной и прописной буквы дает разницу смыслов.
В работе есть спорное положение о согласии/несогласии с мнением И. О. Князького в конце второй главы, которое, кажется, противоречит утверждению Самуэля Вячеславовича из предыдущей главы по поводу оправданий тиранических замашек Тиберия как ответ на эмоциональное расстройство. В конце второй главы Рогожкин С. В. практически соглашается с почти идентичным взглядом И. О. Князькова на смену вектора политики Тиберия.
Полезность третьей главы очень спорна, так как в ней находят отражения, по сути, уже дважды оговоренные выводы. Кроме того, подведение итогов — прерогатива заключения, иначе существование этого раздела исследовательских работ было бы бессмысленным. Рогожкин С. В. опять повторяет в третьей главе не просто выводы, а всю хронику критических событий правления Тиберия. Вызывает недоумение то, что в главе «Итоги», мы сталкиваемся с некоторыми фактами, до этого в рассуждении не фигурировавшими, например, восстанием в Галлии, собственно политическими решениями Тиберия вне дворцовых интриг, непопулярными реформами Германика в провинциях и пр. В конце главы автор приходит к выводу, что «итогом внутренней политики Тиберия Клавдия можно назвать сохранение статус-кво» — это противоречит рассуждению предыдущих глав, так как там утверждалось, что именно с Тиберия началось активное применение государственного аппарата репрессий, утверждение монархии без ориентира на республиканское прошлое, лишение Сената политических сил, что тот все больше и больше становился марионеткой в руках принцепса. Более того, в заключении Самуэль Вячеславович сам себе противоречит, утверждая обратное изложенному в конце третьей главы тезису: «Правление Тиберия Клавдия ознаменовало собой изменение системы принципата. Деятельность императора была направленна на достижения компромисса, что в последствии сменилось на политику по укреплению репрессивного аппарата, а это в свою очередь означало подавление республиканских институтов. Роспуск народного собрания ясно дает понять, что Тиберий не видел смысла в продолжении республиканской традиции и постепенно менял политический вектор, всё больше нарушая формальные процедуры, которым раньше следовал <…> Император создал прецедент, проявил деспотию, которую подхватили последующие императоры».
В заключении Рогожкин С. В. изменяет цель: из нее исчезает оценка последствий правления Тиберия и добавляется выявление особенностей «взаимоотношения [Тиберия] с сенатом и проведения внутренней политики» — это является критическим недочетом работы, превращающим результаты исследования в бессмысленность, так как статья не соответствует поставленной цели. Кажется также странным то, что автор сам устанавливает, какие задачи решило исследование, ведь выносит приговор учебно-научная среда, критически оценивающая работу, а не сам автор.
Рогожкин С. В. не предоставил, кроме пересказа политической истории, никакого иного знания: не были затронуты ни социальная, ни экономическая, ни культурная стороны принципата Тиберия (то, что есть в третье главе, недостаточно и существует в отрыве от основных рассуждений), следовательно, без этого нельзя дать объективную оценку правлению, что выставлялось в качестве цели во введении. Опасным кажется отсутствие критического подхода к источникам, большинство тезисов античных авторов воспринимаются как должное без требуемого анализа, а столь многочисленные ссылки порой стоят не там, где нужно. Кроме того, было бы полезным, но не принципиально необходимым осветить этапы предшествующего правления и последующего, чтобы видеть динамику не только одного принципата внутри себя, но и того же внутри нескольких правлений. В этом ключе стоит похвалить стремление Рогожкина С. В. отразить динамику политики Тиберия. Текст исследования приятно читать, в большинстве своем мысли автора понятны, за некоторым исключением — нет. В общем и целом, работу можно охарактеризовать как удачную попытку осуществить исследование, потому что поставленная цель, к сожалению, была не достигнута, но работа проведена и наделена некоторым числом положительных тенденций, что дает ей право на существование.
Спасибо Рогожкину С. В. за проделанную работу!
Во введении первым, что бросается в глаза, это подробная характеристика историографии, связанной с интересующей проблемой — царствования Тиберия Клавдия — все хорошо, хотя Рогожкин С. В. не дает оценки состояния отечественной и зарубежной историографии, тем самым не демонстрирует научную новизну собственного исследования. Излагая мысли исследователей правления Тиберия, Самуэль Вячеславович не говорит о том, почему эти мысли полезны для предлагаемой работы. Обращаясь к источникам, автор характеризует их недостаточно подробно и неравномерно: во-первых, не говорится о языке, на котором изучался источник (а ссылки на источники неправильно оформлены, см. ГОСТ), во-вторых, автор не приводит списка сочинений античных авторов (хотя характеризует отдельные), в-третьих, Самуэль Вячеславович больше посвящает внимание биографической информации, чем источниковедческой (не раскрываются специфические особенности работы с тем или иным источником), например, про первого в разборе Веллея Патерекула Рогожкин С. В. пишет: «По мнению современных биографов, ряд эпизодов, связанных с императором, были преувеличенны» — однако от трактовки причин этого воздерживается. Автор статьи ставит цель, декларирует задачи, но опускает структуру работы.
Основную часть статьи Рогожкин С. В. начинает с характеристики особенностей принципата Тиберия, хотя уже отразил это в своем введении в разделе, посвященном историографии. Стоит отметить, что Самуэль Вячеславович правильно делает, что объясняет приводимые исторические факты и события, хотя в то же время лишает критического анализа цитаты античных историков. Более того, во введение Рогожкин С. В. приводил исторические события, ссылаясь на мнения исследователей, в основной части автор статьи от этого отказался, поэтому, когда мы, читатели, имеем дело с субъективным взглядом (тезис с мнением самого Тиберия, реплика ему приписываемы и т. п.), мы можем напороться на ошибку в трактовке или попросту привести неверное историческое объяснение. Необходимо демонстрировать весь путь мыслительного процесса и выводы, к которым в ходе процесса удается прийти. Странная логика наблюдается в положении о вине Пизона в смерти Германика: «Однако зафиксировано, что Пизон открыто радовался смерти своего соперника и отправлял письма Тиберию, в которых всячески критиковал Германика. Подобное поведение косвенно свидетельствует о возможной непричастности Пизона. Ведь в ситуации, когда тебя обвиняют в смерти сына императора, последние, что ты должен делать, так это публично критиковать погибшего и радоваться его смерти». Видимо, автор здесь хотел сказать, если императору нужно найти виноватого, то он выберет того, кто в общественном сознании хуже относился к убиенному, взор упал на того, кто не скрывает своей ненависть — на Пизона, хотя тот, может быть, к убийству и не причастен. Кажется минусом использование античной терминологии (квестур, префект преторианцев, претор, проконсул и т. д.) без ее раскрытия: непосвященных читатель просто не поймет, что читает, это сокращает потенциальную читательскую базу.
Рогожкин С. В. подробно и понятно показывает эволюцию Тиберия, однако неясно, чем научно привлекательна предлагаемая работа, так как излагаемая информация представляется всяким учебным пособием, описывающим историю Рима.
В конце главы автор предлагаемой статьи упоминает трёхчастное деление, однако в ходе рассуждения это никак не фиксировалось. Не достает четкости. Выводы в конце главы отражают четкое внимание деталям.
Во второй главе Рогожкин С. В. прослеживает изменение отношений Сената и Тиберия. Опять проскальзывает странная логика: «Сенат проголосовал как нужно было Тиберию, но не единогласно, что говорит о постепенном утрачивании сенатом того влияния, что он приобрёл после смерти Августа». Как факт несогласия говорит об упадке власти? Непонятное предложение: «Если изначально у сената была причина относиться к сенату благосклонно для того, чтобы не потерять ещё сохранившихся за ними прав, то теперь Тиберий мог представлять в глазах сенаторов угрозу» — хотелось бы пояснений. Самуэль Вячеславович не смог уйти от пересказа им же оговоренных в первой главе исторических событий: сюжеты про Агриппу, квестуру Нерона повторены чуть ли не слово в слово. Очевидно, невозможно и не нужно придумывать новую историю для новой главы, но разве не кажется логичным, если в работе рассматриваются одни и те же события, почему бы не объединить в одном месте выводы при характеристике этих событий. Складывается впечатление, что вторая глава — это младший брат первой, наделенный меньшим количеством примеров, но такими же выводами.
Из буквоедства: приводя наименования «сенат» — «Сенат» или «август» — «Август» в ходе работы кажется правильным выдерживать одну традицию изложения и писать слова одинаково, иначе в голове происходит путаница, ведь разница заглавной и прописной буквы дает разницу смыслов.
В работе есть спорное положение о согласии/несогласии с мнением И. О. Князького в конце второй главы, которое, кажется, противоречит утверждению Самуэля Вячеславовича из предыдущей главы по поводу оправданий тиранических замашек Тиберия как ответ на эмоциональное расстройство. В конце второй главы Рогожкин С. В. практически соглашается с почти идентичным взглядом И. О. Князькова на смену вектора политики Тиберия.
Полезность третьей главы очень спорна, так как в ней находят отражения, по сути, уже дважды оговоренные выводы. Кроме того, подведение итогов — прерогатива заключения, иначе существование этого раздела исследовательских работ было бы бессмысленным. Рогожкин С. В. опять повторяет в третьей главе не просто выводы, а всю хронику критических событий правления Тиберия. Вызывает недоумение то, что в главе «Итоги», мы сталкиваемся с некоторыми фактами, до этого в рассуждении не фигурировавшими, например, восстанием в Галлии, собственно политическими решениями Тиберия вне дворцовых интриг, непопулярными реформами Германика в провинциях и пр. В конце главы автор приходит к выводу, что «итогом внутренней политики Тиберия Клавдия можно назвать сохранение статус-кво» — это противоречит рассуждению предыдущих глав, так как там утверждалось, что именно с Тиберия началось активное применение государственного аппарата репрессий, утверждение монархии без ориентира на республиканское прошлое, лишение Сената политических сил, что тот все больше и больше становился марионеткой в руках принцепса. Более того, в заключении Самуэль Вячеславович сам себе противоречит, утверждая обратное изложенному в конце третьей главы тезису: «Правление Тиберия Клавдия ознаменовало собой изменение системы принципата. Деятельность императора была направленна на достижения компромисса, что в последствии сменилось на политику по укреплению репрессивного аппарата, а это в свою очередь означало подавление республиканских институтов. Роспуск народного собрания ясно дает понять, что Тиберий не видел смысла в продолжении республиканской традиции и постепенно менял политический вектор, всё больше нарушая формальные процедуры, которым раньше следовал <…> Император создал прецедент, проявил деспотию, которую подхватили последующие императоры».
В заключении Рогожкин С. В. изменяет цель: из нее исчезает оценка последствий правления Тиберия и добавляется выявление особенностей «взаимоотношения [Тиберия] с сенатом и проведения внутренней политики» — это является критическим недочетом работы, превращающим результаты исследования в бессмысленность, так как статья не соответствует поставленной цели. Кажется также странным то, что автор сам устанавливает, какие задачи решило исследование, ведь выносит приговор учебно-научная среда, критически оценивающая работу, а не сам автор.
Рогожкин С. В. не предоставил, кроме пересказа политической истории, никакого иного знания: не были затронуты ни социальная, ни экономическая, ни культурная стороны принципата Тиберия (то, что есть в третье главе, недостаточно и существует в отрыве от основных рассуждений), следовательно, без этого нельзя дать объективную оценку правлению, что выставлялось в качестве цели во введении. Опасным кажется отсутствие критического подхода к источникам, большинство тезисов античных авторов воспринимаются как должное без требуемого анализа, а столь многочисленные ссылки порой стоят не там, где нужно. Кроме того, было бы полезным, но не принципиально необходимым осветить этапы предшествующего правления и последующего, чтобы видеть динамику не только одного принципата внутри себя, но и того же внутри нескольких правлений. В этом ключе стоит похвалить стремление Рогожкина С. В. отразить динамику политики Тиберия. Текст исследования приятно читать, в большинстве своем мысли автора понятны, за некоторым исключением — нет. В общем и целом, работу можно охарактеризовать как удачную попытку осуществить исследование, потому что поставленная цель, к сожалению, была не достигнута, но работа проведена и наделена некоторым числом положительных тенденций, что дает ей право на существование.
Спасибо Рогожкину С. В. за проделанную работу!